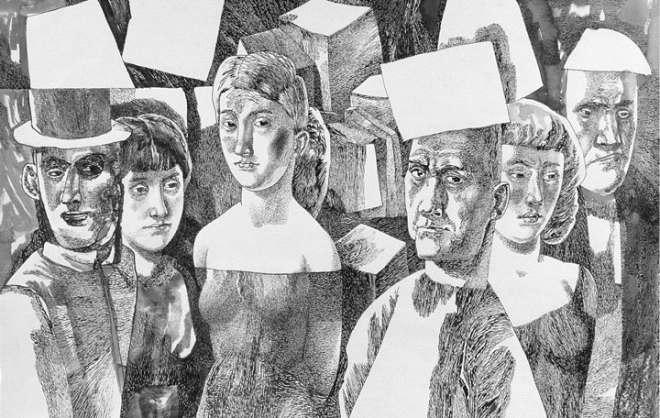- 1-0 главных книг уходящего года: Татьяна Сохарева
Книга прозы живущей в США поэтессы Полины Барсковой — это первая попытка осмыслить блокаду не как общее место из учебника истории. Это, конечно, не совсем проза. В ней нет места хрестоматийным коллективным переживаниям. В основу книги легла многолетняя работа автора с дневниками и письмами блокадников, из которых выросло 11 текстов и одна пьеса. Среди героев Барсковой — философ Яков Друскин, который в свое время спас чемоданчик с рукописями Даниила Хармса и Александра Введенского, и его брат-музыковед Михаил, драматург Евгений Шварц — преимущественно те, кого никто не ждет увидеть героями подобных сборников. Каждый текст в итоге превратился в разросшееся и вышедшее из берегов стихотворение, слепок с чьей-то негромкой «второстепенной» жизни.
- «Живые картины» Полины Барсковой: ленинградская блокада в лицах. Варвара Бабицкая
В своей первой книге прозы петербургский поэт и филолог исследует самый болезненный сюжет советской истории через призму личного опыта. Варвара Бабицкая предлагает возможный способ чтения этого сложного текста.
Полина Барскова, во-первых, большой поэт, а во-вторых, филолог и антрополог. В последние десять лет она занимается областью одновременно воспаленной и неизученной: блокадой Ленинграда. Отрывки из готовящейся книги Барсковой «Петербург в блокаде: эстетика города как перечитывание» печатались в журналах «Новое литературное обозрение» и «Неприкосновенный запас»; тому же предмету посвящен ее цикл стихов «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941–1945». К дневникам ленинградских блокадников отсылает и ее первая книжка художественной прозы.
Отсюда сложность разговора о «Живых картинах»: невозможно говорить о проблеме художественного прочтения блокадных архивов более точно и исчерпывающе, чем Барскова делает это сама, не только как поэт и исследователь, но и как эссеист. Но тем более интересно проследить, как и почему автор, решая эту проблему в собственной художественной практике, выбирает при этом новую для себя форму и совершенно новый метод.
Проза Барсковой — это сложно устроенный текст, написанный не то чтобы без снисхождения к читателю, а, скорее, с уважением, которое нелегко оправдать, но невероятно радостно обрести заново, — мы уже отвыкли от этого на фоне плоской, идеологически прямолинейной в среднем русской прозы последних лет. Текст такого рода предполагает взрослые, равноправные отношения между автором и читателем: раз автор дал себе труд обновить для нас искусство письма, нам не грех стряхнуть пыль со своих навыков чтения.
«Живые картины» — это сборник рассказов или очерков, часто на первый взгляд не связанных между собой сюжетно и объединенных очень общей темой памяти, а в виде постскриптума (last but not least) — пьеса, не случайно одноименная всей книжке, о любви живших в действительности художника Моисея Ваксера и искусствоведа Антонины Изергиной, зимующих в мертвом Эрмитаже в окружении пустых рам из-под эвакуированных Рембрандтов. Эти тексты можно рассматривать по отдельности, и поначалу они так и читаются — то воспоминания детства, то лирические примечания на полях блокадных дневников. Авторы этих дневников и герои мемуаров часто не названы и (что поначалу сильно сбивает с толку) наплывают друг на друга вполне поэтическим ассоциативным путем далековатых сближений.
Но по мере чтения все сильнее становится ощущение дежавю и крепнет раздражение при попытке понять, как связаны лифчик из американского секс-шопа стальными иглами вовнутрь и бабушкин капустный пирог с героической обороной Ленинграда. А что все это связано, становится ясно сразу: проза филолога, при всей своей видимой фрагментарности и усложненности, всегда добросовестно рефлексирует сама о себе: «Прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти голоса могут составить единый голос, и тогда сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только стыдотоска».
Это из первого текста — «Прощатель», о Примо Леви, которого кто-то из товарищей по выживанию наградил этим обидным прозвищем за его книги о холокосте, и тут же — об отце рассказчицы, который родил, но не признал, а появлялся только гулким голосом, читающим стихи из телефонной трубки («Скоро я прощу тебя»). Следом, не переводя дыхания, о другом отце, который растил, но молчал, и только после его смерти в ящике стола рассказчица нашла огромную пачку собственных стихов, «переписанных им от руки идеальным, брезгливым почерком — при жизни о них меж нами не было сказано ни слова». Истории разных любовей, тоже в основном покойных. История о двух братьях — Якове и Михаиле Друскиных. И везде независимо от сюжета возникает призраком то Марина Малич, в Ленинграде 42 года узнавшая о гибели своего мужа, Даниила Хармса, то какая-то рыхлая женщина с морковными волосами, с придыханием читающая в санатории «певца блокады» — Ольгу Берггольц.
Чем дальше в лес, тем чаще эти вешки, намечающие маршрут понимания. Вот о Примо Леви: «Когда лагерь освободили, первое, на что он накинулся, были книги, и книги ему были такие: учебник по гинекологии, франко-немецкий словарь, сборник «Волшебные сказки о животных». Наиболее убедительный язык для разговора о непредставимом историческом опыте неожиданно находится где-то посередине между учебником гинекологии и волшебной сказкой, между натурализмом и аллегорией.
Понимание структуры всего сборника, в котором не даром так много места уделено живописи, дает очерк «Листодер» о двух советских сказочниках — Виталии Бианки и Евгении Шварце. «Шварца — и нас ему вслед — интересовал аллегорический род поединка человеческой души и дьявола времени»: птичий, сказочный, эзопов язык советских детских писателей, поэтов-абсурдистов и певцов родной природы был, как известно, способом не называть того, о чем говорить нельзя, а показать аллегорически. Этот механизм не нуждается в пояснениях применительно к пьесам Шварца и гораздо более неожиданно выявляется (и потому сильнее пробирает), когда автор анализирует сказку Бианки «Лис и мышонок» или сообщение «наших лескоров» об эксперименте с замороженными лягушатами.
Автор пишет: «Среди визитеров в блокаду натуралист-дилетант Бианки оказался описателем наиболее подходящим, чутким и методичным: то, на что смотреть было невозможно, осмотрел и категоризировал <…> Блокадный стиль, блокадный юмор, блокадное бесчувствие, блокадная улыбка, блокадный язык, вид блокадного города, блокадное женское, блокадные евреи — то есть за две недели он понял то, что нам еще только предстоит сформулировать: что блокада есть особая цивилизация со всеми чертами, присущими человеческим сообществам».
Но у нас, в отличие от Бианки, нет для формулировок даже птичьего языка. Эта тема — табу, всякий неканонический к ней подход немедленно вызываетскандал, «смертное время» оказывается опечатано, засыпано, а на месте массовой кремации погибших блокадников разбит торжественный парк Победы, где Барскова гуляла в детстве — буквально по человеческому пеплу. Этот пепел, многие годы стучащий в ее сердце, рифмуется с отмеченным ею же общим для многих хроникеров «пониманием блокадного города как новых Помпей, где под пеплом катастрофы погибают целые культурные пласты». Однако помимо культурных ценностей под пеплом Помпей находятся и полости в форме обнявшейся пары или собаки на цепи. Если археолог заливает в этот отпечаток гипс, чтобы получить изваяние помпейских любовников, то писатель заполняет полость умолчания в исторической памяти самим собой, своей лирической точкой зрения и субъективным опытом. Как сказала Барскова в интервью: «Когда я стала узнавать про жизни этих людей, меня в них все поражало. Огромное количество человек было поставлено в самую страшную биологическую ситуацию, которую мы только можем — но не хотим — себе представлять».
Остается только изучать язык блокады («Исчезающие, как жир и сахар в ноябре, склонения спряжений <…> Знаки препинания умерли в блокадных дневниках первыми») по сообщениям сгинувших лескоров, которые у Барсковой перечислены скороговоркой где-то сбоку, потому что большинство их имен нам ничего уже не говорит: «Максимов — Зальцман —Гор — Вольтман — Спасская — Крандиевская — Толстая — Гнедич». Старая салонная игра в «живые картины» предполагала полную неподвижность ее участников, и, чтобы их понять, остается застыть самим. Поверить опыт непредставимой биологической ситуации собственным, постижимым опытом — конфликт с собственной биологией, которая вдруг бросается на тебя и грозит превратить в зверя, в той или иной степени знаком всякому. Это и делает Барскова — нарушает суеверное табу, запрещающее «показывать на себе», исследуя, например, как то, что принято называть «терзаниями плоти», превращается в раковую опухоль, описывая «погубителя души в агонии химиотерапии». Нет языка для описания блокады, но можно сделать собственный анатомический срез с опытом ее усвоения внутри. Как писала Полина Барскова в одном стихотворении:
«Но что же
Сказать еще — пейзаж, абстракт,
Морозный город весь в кострах,
Сокровища духа,
Понос, золотуха.
Вдовица с котелком
Нависла над костерком.
Трещит ее сердце
согреться согреться
Я, доктор, вроде — рядом с ней,
Возможно, я — она,
Мне так становится ясней,
Какие времена».
Афиша Воздух
- Андрей Завадский, «Нож»
Вторая книга, которую я хотел бы отметить в этом списке, посвящена сложнейшей теме блокады Ленинграда. В этой прозаической работе поэт и филолог Полина Барскова рассказывает истории блокады, но делает это через личный опыт. С книгой Петровской эту работу объединяет удачная попытка найти язык для разговора о болезненном, не поддающемся осмыслению, а тем более облечению в текстовую форму фрагменте прошлого.
- Галина Юзефович
Полина Барскова — не только поэт, но еще и ученый-гуманитарий. И главная ее не то любовь, не то болезнь, не то предмет научных исследований (а на самом деле, все сразу) — это блокада Ленинграда, которую Барскова исследует в обеих своих ипостасях — поэтической и академической. Как ученый она пишет о блокаде большую монографию, основанную на архивных материалах, как поэт выпустила цикл стихов «Справочник ленинградских писателей фронтовиков 1941–1945». Новая ее книга «Живые картины» — тоже про блокаду, но теперь к двум уже известным лицам Барсковой добавляется третье: на сей раз она отправляется в свое персональное чистилище, облачившись в маскарадный костюм прозаика.
Маскарадный — потому что, конечно, никакая это не проза. Скорее можно говорить, что «Живые картины» — проекция личности автора (напомню, пишущего стихи про блокаду и одновременно работающего над научной книгой о ней), отлитая — действительно, в условно прозаический текст, если считать таковым любой текст без выраженного размера и рифмы, да еще и разбитый на главы.
Воспоминания детства переплетаются на страницах книги с историями блокадников (самая щемящая из них — про любовь между
женщиной-искусствоведом имужчиной-художником , оставшимися умирать в мертвом ледяном Эрмитаже), случайные впечатления и выцепленные зорким глазом детали — с живыми голосами из прошлого. Композиция дергается, как при съемке «с руки», метания авторской мысли порой угадываются лишь по светящемуся энергетическому хвосту, а поток ассоциаций кажется непредсказуемым и не всегда прозрачным. И тем не менее из всего этого — из непережитых травм, своих и чужих страхов, из цитат и визуальных образов — складываетсякакой-то удивительно достоверный оттиск страшного времени. Если уж говорить о блокаде, то, пожалуй, именно так — как о личном переживании, как о собственном опыте, длящемся и не завершенном.
- Евгения Вежлян (Воробьева)
Вопрос «Как вообще возможно повествовать о блокаде?», сообразуясь с той исторической точкой «сейчас», в которой находится повествующий, этими текстами поставлен, однако решение его и в том, и в другом случае выносится за скобки. Барскова в первую очередь задается именно этим вопросом. «Полюбить», «сосредоточить внимание» — значит «соприкоснуться», «пережить». И, как следствие, выразить. Блокада Барсковой — это блокада-переживание, блокада-эмоция.
- Елена В. Васильева
Полина Барскова издала первую книгу прозы — совсем небольшую, объемом меньше двухсот страниц, но, можно было бы сказать, тягучую, если бы это слово не имело отрицательной коннотации. Возможно, рассказать о ее книгах помогла бы живопись или музыка, но словом здесь не совладать, нет — слишком уж хорошо она сама им владеет, и вторичность подобных описаний словно бы оскорбляет ее тексты. Взять хотя бы то, насколько точно она может преподносить толкования слов через образы: «Тайна — это то, что ты носишь в себе невидимым, и оно в это самое время производит тебя, превращая тебя в чудовище. Тайна радиоактивна». Или описывать, ставя в отношения симбиоза явления, казалось бы, несводимые — дискотеку в детском лагере и оперный эротизм века этак XVIII: «Внеполые фигурки, отсюда кажущиеся сродни сомовским маркизам (локоны до пояса, золотые и серебряные, башмаки и каблуки — хрустальные), вскрикивают: ты моя душа, ты мое сердце. Хрустальным контратенором ангелы-castrati пели о возвышенном и были все облиты, припорошены райским пеплом, диско-бликами, кокаиновым инеем». А еще — соединять вопросы литературные и жизненные, изменять представления о неуместности тех или иных слов, средств, речевых актов, демонстрировать возможности словообразования (неологизмов, образованных и сложением, и суффиксальным способом), звуковой организации текста (от ономатопей до аллитераций), лексической сочетаемости (от подбора эпитетов до экспансии иностранных слов в русский текст): «Что же это за б….ий такой сюжет, приведший меня сюда на мерцающий асфальт, чтобы заново обсудить с собой вопрос этический — следует ли заново идти в логово издыхающего дракона, некогда сожравшего, сжамкавшего твое сердце (вот так: ням-ням-ням), вероятно, именно этот вопрос и является событием-сюжетом — тем, без чего не живут, не держатся ни приличная неудавшаяся жизнь, ни приличная проза».
За счет соединения тематики сугубо личной, переживание которой лучше всего удается вменить постороннему человеку (насколько вообще так можно обозначить читателя по отношению к поэту) именно через лирику, с темами в той или иной степени общественными, Барскова пробьет любую броню равнодушия. Прочитавший «Живые картины» начнет задаваться вопросами: «Что было бы, если бы не…» — главным из которых окажется: «Что было бы со мной, если бы я не прочитал эту книгу?»
- Живая вода. Елена Макеенко
Этот сборник текстов, являющийся на самом деле цельным и чрезвычайно плотно скрученным организмом, принято характеризовать как «первую книгу прозы поэта». И характеристика эта настолько неустойчива, что самому поэту приходится доказывать то ли себе, то ли читателю, что она верна, используя цитаты самых разных своих собеседников. Примерно на середине книги один из них иронически замечает: «Проза сродни времени, его кажется слишком много, оно везде — сколько у тебя времени, столько у тебя прозы: не то стих, который вырывается-взрывается, а что ж нам потом делать?». И хотя реплика действительно значима для отношения текста Барсковой со временем, от вопроса «что ж нам потом делать?» эту прозу она уж точно не избавляет. «Живые картины» — один из художественных продуктов исследования Блокады, которым Барскова занимается уже десять лет.
Формально — основанные на блокадных дневниках тексты, фактически — дневник читателя и поэта, в котором собственных воспоминаний и наблюдений, от детства до момента письма, ничуть не меньше, чем исторического материала. «Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя», — пишет автор в первом тексте, «Прощатель» (он был опубликован в журнале «Воздух» до выхода книги, и стал считаться едва ли не манифестом). Писатель, верно, становится для читателя самогонным аппаратом, выжимающим из скопленного в читательской памяти настоящее и будущее время.
Среди текстов «Живых картин» — воспоминания о детском лагере, летних каникулах в Сибири и о получении американского гражданства, история братьев Друскиных и сравнительное жизнеописание (скорее, метафороописание) советских сказочников Шварца и Бианки, размышления об отцах, подругах и любовниках и, наконец, пьеса — «документ-сказка» — о любви художника Моисея Ваксера и Антонины Изергиной в холодном и голодном блокадном Эрмитаже. «Полагаю, память устроена, как суп, в котором двигаешь ложкой, как веслом, и всплывают неожиданные вещи в неожиданной очерёдности», — замечает Барскова в скобках. И в каждом тексте она тоскует и насмешничает, шокирует откровенным и утешает трогательным, путает многоголосьем и каждый раз отталкивает, притянув уже, казалось бы, чтобы прошептать на ухо самое главное.
Читающему Полину Барскову остаётся только широко раскрывать глаза, попадая в ритм обманчивой прозы, с его непредсказуемыми поворотами, переходами, перепадами слов и смыслов.Её витальная сила так велика и неукротима, что каждая буква на бумаге становится плотью и не останавливается, будучи написанной. Продолжает истекать, источать, изблёвывать нюансы и интонации, не давая ни графическим, ни грамматическим рамкам себя удерживать, не позволяя воспринимающему зафиксировать и запомнить прочитанное как известное. Чтение этих текстов — падение в горную реку, которая не даёт прийти в себя: ударяет, переворачивает, перехватывает дыхание и заставляет, в конце концов, восхищаться тем, насколько беспомощным тебя делает.
Беспомощность, стоит признаться, иногда вытекает ещё и из того, что Барскова говорит с читателем, как с собой — не допуская мысли, что её собеседник не угадывает с трёх нот прецедентных текстов, блокадных имён, ленинградских мест. В её личном синкретизме истории общей и частной взаимозаполняются любые лакуны. В её персональном Ленинграде труповозки, собирающие блокадные «подснежники», движутся в том же пространстве, что и автомобиль, сбивающий её возлюбленного, а работа прощения, которую всю жизнь выполняет бывший лагерный узник, осуществляется посредством того же механизма, что попытка простить биологического отца, не признавшего гениальную дочь. «…смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несёшь себе, в себе» — и если автору это, в одному ему известной мере, удаётся, то для читателя текст делает задачу разделения отнюдь не простой.
В её текстах, как в «неканонической» — не отлитой в бронзе официальных героических формулировок — блокаде, бесконечно много живых деталей, а неизбежную смерть как будто можно преодолеть усилием памяти.Барскова обладает поразительным даром любить мертвецов: своих и чужих, ставших своими, — всех без разбору, как волчица, которая выкармливает любого щенка, оказавшегося близким и голодным. Она обиженно и страстно помнит любимых и разлюбленных — неважно кем, ушедших и оставивших в ней след — неважно как. Она баюкает словом завшивевшие дистрофичные тела своих героев в ворохе тряпок и приглашает вложить в их раны чужие брезгливые и любопытные пальцы. Невыносимо много красоты и нежности в жалком, страшном, мёртвом, почти совсем забытом — она выносит на руках, заворачивает в буквы, как хрустального ёлочного снегиря, как заледенелых бианковских лягушат, как пёрышки, которые нужно раздать в другие руки, прежде чем берущие обнаружат в обманчивой лёгкости свинцовую тяжесть. И в паре часов чтения — годы сострадания, со-бытия, сожительства с чужой памятью, принятой в свою.
А через пару часов самым естественным движением, какое вызывают только по-настоящему драгоценные тексты, становится — перевернуть и начать с первой страницы. Чтобы наверняка разглядеть неувиденное, не замотанное в цветные одеяльца, и удивлённо, испуганно — тоже полюбить.
- Живые картины блокады. Алик Цейтлин
Первая книга прозы петербургского поэта Полины Барсковой «Живые картины» вышла в конце 2014 года. В ней собраны тексты, основной темой которых является блокада Ленинграда. Тема блокады интересует Барскову уже очень давно, она исследует ее как филолог и как антрополог: к выходу готовится научная работа «Петербург в блокаде: эстетика города как перечитывание».
Любой опыт требует тщательной рефлексии, а травм и потерь - особенно. Эта книга – исследование боли, которая дает о себе знать спустя такое количество лет. Неотрефлексированный опыт катастроф ХХ века продолжает жить в коллективном теле, вызывая в нем ломоту, такую, как у простуженного. «Кости ломит».
Городская культура «века довольства» провозглашает отказ от диалога с нашими мертвыми. Смерть исключается из городской повседневности, вытесняется на периферию. Люди начинают бояться смерти и разговора о ней. Забвению предается важное, мы часто слышим от людей: «не хочу об этом думать, это больная для меня тема».
Полина Барскова не боится говорить о важном и больном, она вызывает нас и наших мертвых (в том числе и погибших в блокаду) на открытый разговор. Мертвые вновь обретают тела и голоса, обретают цвет и запах, – это обусловлено и тем, что проза Барсковой – это проза поэта, проза пограничной области, в которой все – живые и мертвые – сосуществуют в едином пространстве, но где у каждого отдельная судьба. Обращаясь вместе с повествователем к прошлым поколениям, мы внимательно смотрим в их лица, а они в наши. Прощаем ли мы друг друга?
Тексты, собранные в этой книге, – это проживание Истории нашим современником и фиксация его взгляда, чрезвычайно необходимые нам как обществу. В этом один из главных гуманитарных смыслов этой книги.
- Живые картины, или Жизнь после жизни. Александра Цибуля
Поэт и прозаик Полина Барскова более десяти лет занимается темой блокады и внимательно изучает дневники жителей осаждённого города. В американском университете она читает курсы и ведёт семинары, посвящённые блокаде.В пьесе, которая стала и названием всей книги, Полина Барскова описывает историю любви молодого художника и искусствоведа в Эрмитаже в годы блокады. Цинга, вши, осколки зеркал на полу, дистрофия, экзема, тела, замотанные в тряпочки-обрывки, в муфтах и чепцах, спелёнатые как мумии или младенцы:
«В полутьме на сцене стоит стол. На нём пытаются улечься, устроиться два человека. Это Моисей и Тотя. Оба завёрнуты в грязно-белые ватные одеяла и всякое тряпьё.
Постепенно глаза зрителей привыкают к слабому освещению, и становится понятно, что действие происходит в одном из залов Эрмитажа. Пол усыпан битым стеклом и песком».
Обессилевшие герои падают со стола, ставшего их ложем-убежищем, и беспомощно закатываются под него. Они кличут друг друга как слепые, ищут в темноте и холоде.
Даже в условиях ужаса, тотальной нищеты жизни, ежеминутного присутствия смерти — забота, нежность, внимательность к человеку, красота и высота личности, спасительная ирония и способность мечтать, слушать пластинку со строгим вальсом без граммофона.
Трогательные и одновременно безнадёжные, никчёмные и бесстрашные, сентиментальные, герои Барсковой порой напоминают персонажей Бэккета. Важную роль, как и у знаменитого ирландца, играют пронзительные образы: зеркальце, ёлочная игрушка-снегирь (обратившаяся в серебряную пыль), музыкальная пластинка.
«Живые картины» вдохновлены реальными историями, судьбами и голосами: Антонины Николаевны Изергиной (одной из легенд Эрмитажа, хранителя западноевропейской живописи), Моисея Борисовича Ваксера, художника, которого ещё в юности называли гениальным рисовальщиком (ему прочили большое будущее, но жизнь его оборвалась в блокадном Ленинграде в 1942-м), Лидии Гинзбург и Ольги Берггольц.
В книге есть эпизод, когда одна из сотрудниц Эрмитажа показывает «Данаю» Рембрандта юноше с Балтфлота (из благодарности за преподнесённые ей макароны). Сложность заключается в том, что «Данаи» нет (она вместе с другими экспонатами была вывезена в одном из двух эшелонов в Свердловск):
«Ну, показала… рассказала! По памяти. Я же её всю всегда помню… Я же их всех помню… Они же здесь. (Показывает на свои глаза и в темноту.) (…) Ну, я подумала, молодому человеку понравится — золотая же она вся такая, тёплая… Сейчас вот все холодные стали, а она — тёплая!»
Здесь уместно вспомнить легендарную экскурсию Павла Филипповича Губчевского «по рамам» картин для курсантов, отправлявшихся на фронт, которые помогли вынести гибнувшую от сырости мебель из залитого водой помещения под Висячим садом.
Губчевский говорил не только о музее, но и о содержании произведений, особенно он любил рассказывать о Голландии, умел «вкусно» представить знаменитые натюрморты.
Так, и герои Барсковой читают другу друг стихи об окороках, винограде и лимонах Снейдерса, спасаются от голода живописной полнокровностью:«Но вот знаете, мы тут с Соней, с Софьей Евгеньевной, грешным делом стали похаживать к натюрмортам… Встанем и думаем… Вот так стоим и на них смотрим… И как-то горько это и стыдно, но, знаете, и хорошо… и отвлечёшься иногда… грешным делом… Вот Рубенс, знаете ли, очень сейчас мне хорошо бывает — все эти туши, сыры, фрукты… да, и сыры… и сахар…»
Гротескным, мучительным образом в книге становится мумия жреца Па-ди-иста (в блокадные годы её оберегала и охраняла профессор Наталия Давыдовна Флиттнер, египтолог, одна из старейших сотрудниц музея). В книге мумия — символ неотвратимой смерти и бессилия, скованности, а также носитель циничной и равнодушной усмешки зла:
«Я, когда молодая была, к нему приходила и всё повторяла имя — Па-ди-ист… Никак не могла запомнить. Я сначала, когда смотрела на него, всё думала, почему у него так губа закушена (…) — мне всё казалось, он надо мной смеется…»
Эрмитаж ощущается в книге не как место, а скорее как накопитель (собрание) образов, культурной памяти: мумия, Рембрандт, зеркала, Снейдерс.
Герои своими телами слагают знаковые полотна: «Тотя и Моисей повторяют композицию рембрандтовского "Блудного сына"».
Или персонажи перебивают друг друга, читают, выкрикивают, шепчут фрагменты экскурсий, например о позднем пламенеющем Рембрандте, его портретах стариков и старушек:
«Он очень устал. Да, да… Я очень устала. Да, он очень устал. Из темноты, из бордового, из кровавого высвечивается его лицо… Его руки — они сжаты. Они сжаты вот так. Старые руки, знающие всё! Он ничего больше не боится. Он боится всё больше!
(Жалобно) Он же ещё ничего не успел, он только начинает понимать, он только начинает видеть… И всё это — страх и надежда — в выражении его рук, такие удивительные руки!»
Вербализация в данном случае выполняет отчасти терапевтическую функцию, оказывает катарсическое воздействие. Страх отступает. Красота оказывается больше и — что особенно болезненно — дольше, длительней человека.
Неотменимое vita brevis ars longa здесь звучит наиболее остро.
«Живые картины» Полины Барсковой — жуткая и красивая история об уродстве и величии жизни, её чудовищном эротизме, отваге, спасении и гибели.
Автор настаивает на том, что даже на самом краю ночи, в нечеловеческих условиях есть место бесстрашию и любви: «Но, знаете, когда ты уже входишь туда и как-то осматриваешься, то выясняешь, что блокада показала нам, безусловно, страшные вещи о людях, и это не удивительно. Но блокада также показала нам невероятные, замечательные вещи о людях».
Но темой блокады книга Барсковой не исчерпывается. В ней есть разделы («Галерея», «История раздражения», «Листодёр»), в которых появляются имена Пикассо, Тёрнера, Арчила Горки, Евгения Шварца, Виталия Бианки, братьев Друскиных (Якова и Михаила)...
Иногда текст стремительно убыстряется и начинает восприниматься как ритмическая проза:
«В музее на тебя дышит мокрым валом валит тёрнер.
Прозрачный, полный моря, воздуха, через который, как тряпочки и картонки балетных декораций, тебе светят его цвета: золото-охра-серый-чёрный.
Битва золотого и серого, и всё это как лава, главное – ничего не понятно, ничто не застыло, не определено, всё меняется и движется…»Проза Полины Барсковой — терпкая, густая, интимная. Она сочетает в себе раздетость говорящего и декоративность (элементы театральности). Чувственность, насыщенность письма приближают её к живописи.
Барскова пишет о детстве (отсюда сказочный колорит), травме, непрерывной работе прощения, которая длится всю жизнь, и упоительных чарах жизни, которые в конце концов делают её ужас выносимым.
- Затронутые огнем и оставленные на морозе. Мария Рыбакова
«Что-то попало мне в глаз! — воскликнул Кай. — И в сердце».
Жила-была девочка. Она выросла в холодном, перенесшем блокаду городе, на берегу холодного залива с песчаным берегом. Девочка была одинока. Она ходила в школу и ездила в пионерский лагерь. Читала книжки и сочиняла. Окончив школу, она влюбилась, и любимый погиб. Она уехала из страны.
Далеко, во льдах Северного полюса, стоит дворец Снежной Королевы. Королева ко всему равнодушна, и все же есть вещи, которые ее забавляют. Например, лягушки и рыбы, вмерзшие в лед. Грубые крики продавщиц. Всякого рода пытки, особенно холодом, голодом или колюще-режущими предметами. Соблазн и предательство. Смерть. Забвение. Снежная Королева чуть улыбнется, чуть пожмет плечиком и катит дальше на белой карете в сопровождении белых куриц. Может быть, она правит миром. Всевластная и гордая, она не видима никому, кроме своих злейших врагов — поэтов. Поэт (он же художник, он же влюбленный) топчется на талом снегу, а с ним — коза, такс, утка, лисица, коричневая цигарка и красный младенец, пестный чеканчик, варакушка и турухтан. В руках у поэта перышко, чтобы выводить слова, а в авоське — баночка с охрой, баночка с суриком, баночка с киноварью. Идет борьба: кто — кого. Бывший узник концлагеря читает сказки о животных. Замерзая в осажденном городе, профессор сочиняет стихи. Умирающий отец молчаливо и тайно записывает строки, сочиненные дочкой. Девушка ходит к реке, чтобы выкрикивать имя погибшего возлюбленного. Советский гражданин наблюдает за тайной жизнью природы. Американский дворник льет на дорогу красный соус для оттаиванья льда. Тепло, звери, птицы против льда, холода, смерти.
У-ничто-жение
(что-то было, от него ничего не осталось; его уничтожили).Поэт значит делатель
(чего-то не было, его создали; оно стало быть).Поэзия и уничтожение работают друг против друга. Уничтожение думает: я разрушу все, что любит поэт. Поэт думает: все, что люблю, я сохраню от уничтожения. Уничтожение заглядывает поэту в глаза и смеется: посмотрим. Поэт содрогается.
«Не быть ни здесь, ни
где-нибудь еще, и вскоре; нет ничего ужасней и ничего верней» (Филип Ларкин).Проза поэта Полины Барсковой правдива именно потому, что окончательного ответа на вопрос, кто же победит — поэт или Снежная Королева, — она не дает. Бытие и небытие в ее прозе — сообщающиеся сосуды. В «ледяное красное море падает красное ледяное солнце».
Рассказчица приезжает в незнакомый город, где валом валит снегопад. Она входит в гостиницу, включает телевизор, но и на экране она видит заснеженные кварталы. Она выходит на улицу, она идет вдоль пустого канала, и здесь в эту белизну, пустоту, молчание начинают вторгаться краски. Проходят пестрые
женщины-птицы , в сугроб вонзается каблук пуэрториканки в изумрудном платье, на лед льетсякроваво-красная жидкость. И вот уже рассказчица бредет не мимо пустых каналов, а «мимо каналов с полной талого снега коричневой водой». И память о другом городе проступает сквозь черты этого, и острый каблук вызывает в памяти Блока, а седой пучок официантки — Достоевского; и время, отделяющее одну прогулку от другой, перестает существовать, растопленное, как лед, огненной киноварью памяти.Бывают три вида света (верили
когда-то) . Солнце излучает физический свет. Преломляясь через цветные витражи собора, он становится метафизическим светом, полным значений и смыслов. А потом ему нужны человеческие глаза, чтобы войти в сознание мистическим светом, преображающим душу. Рассказ Барсковой о лете становитсямини-собором , преломляющим воспоминание восьмилетней девочки почти в библейскую историю.«Залитый сиянием черничник, лиловые ладони, насыпающие ягоды в детский рот…» Вот пионерский лагерь; вот пошлейшая
поп-группа в телевизоре; вот человек Андрей, приблудившийся к лагерю и влюбленный в маленькую рассказчицу. А теперь — преломим память через витраж слов и красок: вот рай, с зарослями ягод и бесполыми ангелами, что распевают гимны; вот первочеловек Адам и восьмилетняя Ева, вкусившая не яблока, а черники; вот изгнание из рая и осознание наготы (завелись вши, детям обрили головы, а человека Андрея прогнали вовсе).Мертвые способны говорить, только напившись крови. Что может быть страшнее, чем спуститься туда, в царство теней, и принести кровавую жертву? Мертвое в прозе Барсковой — это не только физически мертвое. Жестокие и бесстрастные проявления человеческого исходят оттуда же, из царства смерти. Таков (недо)соблазнитель «Франваль» из рассказа «Персефонина роща». Роща Персефоны лишена романтизма: это подземка с бомжами и наркоманами, магазины, продающие инструменты для садомазохистских развлечений, больница, откуда звонит «Франваль». Его роль в жизни рассказчицы была бы совсем разрушительной, если бы не одна услуга: он
когда-то учил ее «стилю» («научил тебя железными словами делать им больно, делать им сладко, делать их ими — а голос должен быть при этом твердый и легкий»). Цена стилю — кровь, цена поэзии — боль («все вместе — маршрут боли», пишет Барскова, «вновь я посетил: событие боли»).О писателях Барскова пишет не как литературовед и не так, как пишет романист о своих героях. Она пишет о них как о членах семьи или друзьях. Рассказчица («Сестрорецк, Комарово») в детстве придумывала себе родство с писательницей и переводчиком, похороненными на местном кладбище. Избирательное сродство, сказал бы Гете. Мы вольны выбирать себе родителей, потому что, кроме жизни физической, мы живем другой жизнью — жизнью идей, у которой свои семьи, своя генеалогия, свое родство. Барскова, будучи яркой представительницей одного литературного поколения петербургских поэтов, связана (пусть не кровно, а словесно) тесными узами с предшественниками по литературному цеху.
Читая Виталия Бианки, Барскова прослеживает всю ту же спасительную силу оживления мертвого, ледяного — теплом и стихами. Чучельцу зверя «нужна поэзия». Замерзшая подо льдом лягушка оттаивает в доме и начинает прыгать. Любопытное наблюдение: «Пока мы увязаем в снегу и чувствуем везде лед, под ними, в глубине их, уже не только зачалась, но вовсю
происходит-готовится весна». Точно так же зарождается и поэтическое вдохновение — подспудно, в тайне ото всех, незаметно для равнодушных глаз: «жизненный порыв», творческая энергия мира, создающая листья, строчки, личинки насекомых.Но блокада вторгается в прозу Барсковой как абсолютная смерть. Бианки писал о блокадном Ленинграде — «город, который покинули птицы». Сборник заканчивается пьесой «Живые картины», самым грустным и пронзительным из текстов, собранных в этой книге. Прототипы героев — Моисей Ваксер, талантливый молодой художник, погибший от голода, и искусствовед Антонина Изергина. Как говорит Полина, «они появились из размышлений о Моисее и Антонине по причине абсолютного желания и абсолютной невозможности доступа к ним». Сохранились фотографии и рисунки Ваксера, и на фоне их красоты (красоты его лица, красоты его работ) абсурд и жестокость его гибели проступают особенно ярко. Немедленно хочется его спасти, увести из этого жуткого царства смерти, как увела
когда-то Герда своего Кая. Но как? Вот уже семьдесят лет, как его нет на этом свете. Время необратимо, смерть окончательна, органическая материя распадается и больше ее не собрать.«Как можно писать стихи после Освенцима?» — спрашивал Адорно.
Как можно писать стихи после блокады?
Можно. Необходимо.
Потому что истинное дело поэзии — воскрешение мертвых.
- Игорь Зотов
«Поэт Полина Барскова преподавала филологию в Калифорнийском университете в Беркли, а теперь живет в Амхерсте под Бостоном. В питерской юности дебютировала стихами, теперь дебют в прозе. Ее «Живые картины» не роман, а сборник рассказов и одна пьеса, почти все – о любви. Рассказ Modern Talking с явной отсылкой к образу Калибана из шекспировской «Бури». «Дона Флор и ее бабушка» – с отсылкой к почти одноименному знаменитому роману Жоржи Амаду. Рассказ «Персефонина роща» назову безусловно лучшей современной русской любовной прозой. Во-первых, язык. Он у Барсковой и точен, и в то же время поэтически многозначен. И главное – чувственен. Словно ты сам переживаешь эту странную с четким мазохистским привкусом любовь. Героиня «Рощи» давно живет в Америке и вдруг узнает, что бывшая, скорее всего, первая любовь, ее мучитель, которого она оставила в России – здесь, в Сан-Франциско, в больнице, при смерти. Он зовет ее, как звал когда-то в Питере:
„Что же он сделает с твоим сердцем на этот раз? Заберет вместо своего, разложившегося? Снова изблюет его из уст своих? Механизм призыва был необходим, как вампиру – соленая струйка, для поддержания хрупко-мощной жизни. Возвращение в вопрос, возвращение в себя двадцатилетней давности, возвращение в местность – повернешь направо, будет бакалейная лавка, за ней помойка, за ней сад. Все вместе – маршрут боли, когда ты бежишь, зная утешить его и обладать им, и всегда находишь его в отвращении к тебе, в раздражении...“
С книгой Барсковой вышла дикая, некрасивая история – петербургский Дом книги отказался взять ее в продажу, сославшись на рисунок Павла Зальцмана на обложке: обнаженная натура, несовместная, по мнению продавцов, с памятью о блокаде. Художник, чьи работы хранятся в Третьяковке и Русском музее, поэт и писатель, автор блокадных дневников, человек, похоронивший в блокадном городе своих родителей, оказался недостоин представлять эту память. К счастью, «Живые картины» самим своим существованием обезвреживают такое лицемерие. Рассказы о любви – это только отдельные камушки, пусть и драгоценные, а сама книга – цельная мозаика, посвященная памяти. Барскова поэтически переживает свой и чужой исторический опыт, не делая при этом громких выводов, потому что выводы сами мерцают и время от времени вспыхивают озарениями: как прощать, как любить, как помнить. Ханжеская позиция, увы, характерна для нашего времени. Зачастую самый жуткий эпизод войны, эпизод, растянувшийся почти на три года, с необычайной легкостью героизируется. Хотя героизировать его не просто нелепо, а и преступно.
В пьесе «Живые картины» художник Моисей (его прототип - талантливейший советский художник, график и архитектор Моисей Ваксер, умерший в 1942 году в Ленинграде) и его возлюбленная живут в разгромленном войной Эрмитаже. Смерть бродит по пустым залам и уже на пороге. Герой, пока теплятся силы, представляет картины, когда-то здесь висевшие, ведет дневник:
„Сегодня рисовал одной рукой, потом рука заболела, рисовал чуть не носом, ничего не видел. Уставал от напряжения, вызванного штриховкой, но воспрял духом и воспарил, почувствовал себя в седле. Гоп! Гоп! Поехали!“
Это не героизм, если что. Это то, без чего не бывает свободы».Культ-Просвет
- Лев Оборин, 100 лучших книг XXI века, «Полка»
С 2000 года прошло уже 20 лет — а это, между прочим, пятая часть столетия. Самое время подвести кое-какие итоги. «Полка» устроила самый масштабный опрос в своей истории, чтобы определить 100 главных русских книг XXI века: романы, повести, сборники рассказов, нон-фикшн. Более ста экспертов приняли участие в составлении списка: в него вошли знаменитые книги, получившие премии, и не самые известные тексты, оказавшиеся тем не менее важными для движения литературы. Перед вами 100 главных новых книг о прошлом, настоящем, будущем, красоте и неприглядности, жизни и смерти, языке и памяти — и о многом другом.
Проза Полины Барсковой фиксируется на страдании, по-разному его масштабируя: от личных трагедий автобиографической героини до главной катастрофы, центральной темы барсковского прозо-поэтико-филологического проекта — блокады Ленинграда. Собственно, «Живые картины» — не проза, а пьеса, где действуют умирающие, «доходящие» влюблённые в пустых и морозных залах Эрмитажа. Барскова переживает историческое (судьбы блокадников, узников концлагерей, прошедших через ад ленинградских писателей) как лично внятное: её тексты о Владимире Максимове, Виталии Бианки, Примо Леви, братьях Друскиных написаны с высочайшим градусом эмпатии, не избегающей грязного и постыдного. Можно сказать, что, закалённая этой эмпатией, ведомая её наитием в точном выборе слов, пишущая может простить и отпустить на свободу тех, кто нанёс ей обиды, кто покинул её, наконец, саму себя. От «Живых картин» тянется нить к следующей книге Барсковой, «Седьмая щёлочь»; кажется, что рассматривать их стоит в комплексе, как большую работу по созданию нового письма, оживающего на руинах словесности-о-катастрофе. — Л. О.
- Мир памяти. Аня Синяткина
Я думаю о том, как, сталкиваясь с дневниками, мемуарами, письменными свидетельствами об ушедших людях, чувствуешь с таким холодком, что против воли вступаешь в особые отношения — нет, не с этими тенями, с другими. С теми, о ком не написано ни строчки. У кого не было знакомого, который бы вел дневник и посвятил бы им хотя бы абзац, например. Теми бесчисленными тенями, что были и канули. И ты оглядываешься вокруг и видишь, как реальность начинает дрожать, слепнуть и расплываться, потому что — пока-то, конечно, ты ее читаешь. Но шаг вправо — шаг влево... И от всего твоего неописуемого, бесконечно богатого читательского опыта, который и в тебя-то на самом деле не помещается, не останется ничего. Тем почему-то сильнее (в частности, чтобы отвернуться скорей от бессловесного сонма) прикипаешь к людям, которые все-таки как-то остались, к везунчикам (почему-то так видится), кто продолжает эту дискретную форму существования в словах, чужих или своих собственных. Эти мертвецы, в свою очередь, встраиваются в наши жизни, связываются с нашими воспоминаниями, уже на других правах, на правах тех, кто умер — но выжил. Кто особенно драгоценен нам именно потому, что каждую минуту мы понимаем, что он выживает сейчас уже благодаря нам, благодаря нашей памяти одеялу, в которое завернув, как щенка и или кого-то такого, замерзшего, мы его выносим и выносим и выносим из небытия на свет. Ну, и никогда не вынесем.
Но каким-то образом нам с ними нужно сосуществовать. И с теми, и с этими. Если мы продолжаем жить в том же мире. Где есть память. (В какой мере мы действительно продолжаем, вопрос.)
Совершенно отдельная для нас всех история — это бытование с памятью о Блокаде. Сконденсированная до ужасной плотности вселенная не то что в принципе не осмысляемого (может, и так) но и не проговоренного, если по-честному, опыта, который дан нам большей частью уже в буквах. И вот, читатель этих букв вслух и про себя — Полина Барскова, поэт (в случае "Живых картин" прозаик, но все равно поэт). Все эти люди, персонажи ее недлинных текстов — у нее за пазухой, их она выносит из мрака и холода, они продолжают свою жизнь на полях и в примечаниях к ее собственной. Что с собой надо делать, чтобы вести это совместное бытование с открытыми глазами, с открытым сердцем? Как быть с памятью, с которой нельзя? То есть у коробки, в которой протекает бесконечно ускользающая, трудная в кровавую кашу работа памяти с неосмысляемым, сняли четвертую стену, и вот как выглядит — как может выглядеть в случае одного конкретного человека — ее невозможная, пульсирующая жизнь. Как стихи после Освенцима — вещь, абсолютно необходимая, чтобы продолжать существование осмысленно.
- Одиночная экспедиция. Станислав Львовский
«Живые картины» — первая книга прозы Полины Барсковой. И это, кажется, лучшая русская проза, написанная за последние много лет. Формально в книге собраны скорее рассказы, скорее повести (что бы ни значило это слово) и даже одна пьеса, но на самом деле она представляет собой цельный, тщательно выстроенный длинный нарратив: так выглядел бы русский роман, если бы его взяли живым на небо — однако и в этом случае, боюсь, вещество его не смогло бы сгуститься в субстанцию такой режущей хрупкости, такой стеклянной прозрачности и такой обжигающей ясности, как субстанция этой книги.
Формально перед нами, как пишет Марк Липовецкий, «своего рода продолжение поэтического цикла Барсковой “Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941—1945”». Точно так же, как в этом цикле (и в других поэтических текстах), автор работает здесь с блокадой, с историей блокады и с историями блокады. Невозможно, однако, не задаться вопросом: а зачем в таком случае Барсковой понадобилась проза? Трудно представить себе, что поэзия обладает недостаточным (вообще меньшим) инструментарием, арсеналом средств, предназначенных для решения тех задач, что ставит себе автор, — или, лучше сказать, тех, что встают перед ним. Но нет, так не годится: речь не о задачах, которые нужно решить, и не о вопросах, на которые нужно ответить. Скорее о чем-то, с чем нужно справиться — или хотя бы как-то иметь дело. Поэзия для этого приспособлена, в общем, лучше — но «Живые картины» стали книгой прозы.
Формально «Живые картины» — это книга о прошлом. Но, вглядевшись в нее, мы обнаруживаем, что прошлое здесь — не главный герой и тем более не пространство для более или менее изощренной сценографии. Прошлое в этом тексте — антагонист самой книги, точнее, письма, пытающегося совпасть с самим собой, очутиться в настоящем полностью, случиться. Но в русском языке случается гораздо меньше, чем происходит. А«происходит» не то чтобы отсылает носителей языка к определяющей их (нас) истории, а просто без разговоров сопровождает (топай давай, чего встал!) — под вооруженным конвоем.
Поразительнее всего то, как в «Живых картинах» устроено сосуществование автобиографического нарратива с историческим. Они не переплетаются — вместо этого автор (хотел написать «сшивает», но нет) проращивает один в другой. Самое удивительное — что это получается, что в итоге возникает не химера, а гибрид: почти гомогенное повествование о себе в истории и об истории в себе. Швы были, но давно заросли, затянулись. Однако их неосязаемость (в сочетании с видимостью, visibility) как раз и напоминает о том, что они — нет, не были — есть. Эта книга фиксирует — нет, не фиксирует, свидетельствует — трансформацию идентичности. Она — о появлении нового, другого человека (и автора). Но не только о: в каком-то смысле она и есть эта трансформация, одновременно ее (свой собственный) объект, субъект и инструмент.
Естественно предположить, что такая конструкция обязана быть чрезвычайно герметичной. Однако, напротив, она максимально разомкнута в идентичность коллективную, в социальную память, в антропологические по природе и смыслу практики. «Живые картины» выходят далеко за пределы индивидуального опыта переживания индивидуальной травмы или даже индивидуального опыта переживания истории, оказываясь утопическим (в каких-то своих, человеческих масштабах) проектом работы с общей травмой и общим опытом. Блокада для автора — пространство беспощадной неповторимости и беспощадной же общности, собственно, она является местом окончательной встречи человеческого и нечеловеческого в человеке. Местом, где человеческое бесконечно мучительно определяется относительно нечеловеческого, того, что, как говорит Барскова в интервью А. Тихоновой, «сейчас <...> сделает зверями, а потом убьет» людей, населяющих эту книгу. Определяется через разрыв с собственной природой.
Это в одиночку предпринятое автором исследование на предмет того, возможно ли возникновение новой идентичности после переживания возвышенного исторического опыта, относящегося к здешней недавней истории.
Книга эта — также и место встречи ее автора со своими героями: с Дмитрием Евгеньевичем Максимовым и Мариной Малич, с Яковом и Михаилом Друскиными, с Евгением Шварцем и Виталием Бианки, Пикассо и Аршилом Горки. Но среди великих — нет, даже не великих, а просто теней — ходят на тех же правах персонажи уже личной истории автора. «Живые картины» оказываются инструментом памятования — «читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей». Назначение его — в обретении целостности, то ли утраченной, то ли еще не бывшей: «тоска — томление — прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти голоса могут составить единый голос, и тогда сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только стыдотоска — никто не забыт, ничто не забыто — никому не помочь, а забыты все». Кажется, что собственная целостность требует здесь даже не мимесиса, а чуть ли не апокатастасиса: чтобы освободиться от того, прежнего, мира, его придется оживить, восстановить. Это не совсем так — а скорее даже совсем не так: Барскова говорит о прелести, о соблазне.
Нечто похожее происходит будто бы и с личной историей, где место «восстановления» занимает прощение: недаром «Прощателем» книга открывается. Но при этом «жизнь превращалась в заколдованный спешкой чемодан: кроме работы прощения, туда уже ничего не помещалось. Прощение как-то неловко преломлялось, изгибалось и становилось чуть ли не томлением по прошедшему». И далее: «работа прощения вытеснила любовь наслаждение понимание болезни она вытеснила язык вернее она заключалась в постоянном производстве собственного языка единственного / Тот, кто занят работой прощения, является моноглотом». Я цитирую этот фрагмент как поэтический текст потому, что в нем автор вдруг забывает о синтаксической разметке: прием, нормализованный современной поэзией, но в этой прозе эквивалентный пожалуй что крику.
Здесь особенно важно замечание о прощении, преломляющемся и становящемся «чуть ли не томлением по прошедшему» — несмотря на то что привычная психологическая прагматика прощения заключается не в образовании новой связи, но, наоборот, в отсечении старой. Прощение, собственно говоря, и было когда-то «отпущением», разрывом (см. английское «let go»). Но вот новая зависимость, возникающая при совершении «работы прощения», отпущения, — вполне, на первый взгляд, неожиданна. Однако именно здесь, как представляется, и нужно искать, например, ответ на вопрос о том, зачем автор затевает игру, в каком-то смысле довольно рискованную, с неосязаемостью (но не невидимостью) переходов от личной истории к «большой» и обратно. Игра эта не самоценна, она является для автора способом сообщить нам нечто важное о сходстве переживания личной травмы и истории, а точнее, о том, что переживания эти в своем роде изоморфны.
Термин «переживание истории» в предыдущей фразе требует уточнения, за которым я призываю читателя обратиться к работе теоретика историографии Франклина Анкерсмита«Возвышенный исторический опыт». Анкерсмит различает три разновидности исторического опыта: объективный, субъективный и возвышенный. О последнем он пишет, что, в отличие от субъективного, тот «не является переживанием дистанции между прошлым и настоящим и не предполагает обязательного ее наличия. Ситуация тут скорее обратная, так как прошлое обретает бытие лишь благодаря историческому опыту и через его посредство. <...> Прошлое рождается из травматического опыта историка, вступающего в новый мир и сознающего бесповоротную утрату прежнего мира. Тогда его сознание оказывается сценой, на которой разыгрывается драма мировой истории». Далее Анкерсмит пишет о том, что в возвышенном историческом опыте есть лишь опыт: «если эта согласованность прошлого и нас, и наших чувств, внезапно реализовалась в историческом опыте и его посредством, то все, что относится к нам и к прошлому, тут же будет поглощено осью, объединяющей прошлое (объект) и настоящее (субъект). В такой момент все, что за пределами этой оси, — будь то наше личное прошлое или художественно-исторический контекст <...> — для нас уже не существует и не имеет смысла».
Некоторым образом книга Барсковой представляет собой свидетельство о том, что Анкерсмит называет возвышенным историческим опытом, — или, по крайней мере, попытку такого свидетельства, которое обречено, разумеется, в холодном высшем смысле на неудачу или на неуверенность в удаче, поскольку язык здесь всего лишь «служит подобием туннеля, побуждая нас заглянуть внутрь и сфокусироваться на том, что находится в конце или, точнее, уже за его пределами». Барскова во многих местах буквально вторит Анкерсмиту. Так, ее «томление — прелесть архива», предощущение возможности вынырнуть из морока, «в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только стыдотоска», у Анкерсмита разворачивается в подробное рассуждение о скуке, из которого имеет смысл привести хотя бы небольшой фрагмент: «скука и завороженность сперва кажутся диаметрально разнонаправленными. Однако парадокс исчезает, стоит распознать в завороженности томительное предвестие грядущего слияния субъекта и объекта и отсутствие страстного желания, чтобы оно исполнилось. Очевидно, что в состоянии завороженности такое желание может быть необычайно сильным именно потому, что заложенное в нем обещание еще не исполнено. А это провоцирует сознание недостижимости объекта и, таким образом, скуки. Мы никогда не бываем более восприимчивы к желанию слиться с реальностью (источник завороженности) и к ее конечной недоступности (что порождает скуку), чем в те моменты, когда это слияние кажется близким, неизбежным и естественным».
Предельная близость оборачивается предельной недоступностью.
Огонь, полыхающий в сердцевине «Живых картин», поддерживается сосуществованием в одном небольшом пространстве необходимости отказаться от прежнего мира (и прежнего «я») ради обретения нового — и необходимости удерживать в новом «я» память о том, что этот отказ состоялся. Прежнее можно забыть, но факт разрыва забыть невозможно — и нельзя, поскольку он лежит в основе новой идентичности. Возвращаясь к разговору о прощении, который мы на полуслове бросили несколькими абзацами выше: простить, отпустить, возможно — однако прощание с отпущенным должно остаться с тобой до конца.
Говоря словами Анкерсмита: «возвышенное во многих, хотя и не во всех, отношениях является философским эквивалентом психологического понятия травмы». Однако «нам следует различать два вида травмы: с одной стороны, есть травма <...>, которая при всей своей драматичности оставляет идентичность невредимой, с другой стороны, имеется травма <...>, которая предполагает переход от прежней к новой идентичности. В последнем случае травматическая утрата поистине является утратой (прежнего) самого себя. А что может быть больше такой утраты, максимально приближающей нас к смерти?» В первом случае «правдивая история о травмирующем прошлом может в конечном счете привести к примирению травматического опыта и идентичности», но во втором «примирение немыслимо», прежняя идентичность никуда не уходит. Здесь «человек стал тем, кем он больше не является <...>. Кем он был раньше, его прежняя идентичность — все это теперь трансформировалось в идентичность человека, который знает о своей прежней идентичности (но больше не совпадает с ней). Он исключил (часть) прошлого из своей идентичности и в этом смысле забыл его. Но он не забыл, что забыл его».
Говоря словами Барсковой: «смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несешь себе, в себе». И далее: «прелестью для прощателя является та власть, которою обладает над ним прошлое зияние, беда, темнота. По-русски нет слова survivor — тот, кто выжил, кто вернулся. Вот я сейчас и пытаюсь придумать слово, создать-передать существо, а главное, процесс-способ сожительства с памятью о пережитом». Выживший оказывается вы-жившим, только если помнит, откуда.Именно этой пространственной диспозиции — важной, кажется, подразумевающей перемещение через границу, вы-ход, — survivor(от лат. supervivere, т.е. пере-жить) лишен.
Таков механизм прощения — по крайней мере, в случае именно этой личной истории: новое возможно, только если оно осознает и удерживает в себе памятование (т.е. активную, живую память) разрыва с прежним. И именно для этой личной истории он совпадает с механизмом, лежащим в основе анкерсмитовского возвышенного исторического опыта, который «есть опыт обособления прошлого от настоящего», опыт непрерывного самостановления, разрывающегося между припоминанием и забвением. Вот почему прощение — как и бытие-в-истории — занимает «целую жизнь», в которую ничего больше не помещается. Скоро я прощу тебя, говорит автор. Автор говорит правду; и прощение из личной истории, и забвение разрыва из «большой» могут случиться только скоро. Скоро, когда мы добежим — вон же, рукой подать — до горизонта событий — как Михаил до Литейного. Скоро, когда мы тоже остановимся отдышаться, а во рту у нас будет сухо и холодно. Механизм не сломан — он так работает.
(Вот зачем понадобилась проза. Поэзия — слишком ненадежное средство, когда пойманный лисенок навсегда поселяется у тебя за пазухой.)
«Живые картины» — это не книга о прошлом, о блокаде, о Марине Малич или об Аршиле Горки; и это не книга о Полине,которая при этом, да, является одним из ее главных действующих лиц. Это в одиночку предпринятое автором исследование на предмет того, возможно ли возникновение новой идентичности после переживания возвышенного исторического опыта, относящегося к здешней недавней истории. Существует ли вообще жизнь там, где разрыв с этой историей произошел, был пойман, удержан и приручен хотя бы отчасти. Экспедиция в составе одного человека неизбежно становится делом личным, но слишком личным, чрезмерным, уже не помещающимся в тесные рамки личной истории — и, выходя за них, становится событием истории общей, как «Живые картины», первая книга прозы Полины Барсковой.
- Павел Банников
Это первая книга прозы поэта и очень удачная. Хотя, едва ли тут можно говорить только об удаче, скорее о потрясающем чувстве языка и о долгом исследовательском и творческом труде. Тема ленинградской блокады для Барсковой в последнее время одна из центральных, она автор ряда статей, посвящённых блокадным текстам, блокада регулярно возникает и в её стихах. В “Живых картинах” эта тема находит иное, непохожее на предыдущие, отражение. Барскова выступает одновременно в трёх ролях — автора, архивиста и читателя. Архивист бережно перечитывает и сохраняет свидетельства ушедших людей, читатель переживает их внутри себя и превращается в автора, стремящегося донести до других читателей личные истории ленинградцев, пропуская их и через собственную судьбу, ломая наше бессознательное сопротивление (как ни ужасно — воспринимать погибших в массе всегда проще, чем каждого в отдельности). Впрочем, лучше об этом говорит сам автор в тексте “Прощатель”, открывающем книгу:
Архивист перевозит души из одной папки в другую, из такой папки, откуда никто никогда не услышит, в такую, откуда кто-нибудь — ну хоть совсем ненадолго. Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя.
Барскова физиологически проживает свои тексты и своих персонажей, и читателю нужно быть готовым прожить её вместе с ними. Для не знакомых с автором читателей — это хороший путь затем прочитать её как поэта. Но и для тех, кто с творчеством Барсковой знаком — книга станет открытием. Это удивительно тонкая и живая проза.
Для газеты «Литер», 26 февраля 2015
- Под архивным снегом. Лев Оборин
Книга Полины Барсковой удивительным образом совмещает страдание частное со страданием общим, мировым — и первое служит средством вхождения во второе.
Центральный текст книги — заглавная пьеса «Живые картины». Название это многозначно: оно гротескно отсылает к аристократическому развлечению, популярному в XVIII–XIX веках: пантомиме, участники которой застывают в позах персонажей известных произведений живописи, иногда позируя в пустых рамах. В то же время то, что действие пьесы происходит в Эрмитаже во время блокады, — в мертвом музее, в мертвом городе, — наполняет название новым смыслом: перед нами разыгрываются драмы последних живых людей, их-за которых это пространство еще можно считать одушевленным.
Разговор о трагедии блокады, впрочем, предваряют тексты о личных драмах — автобиографические и, может быть, помогающие понять, почему Барскова вообще мыслит в таком регистре: и свое, и общее прошлое поддается каталогизации и через нее — пониманию. Эта каталогизация отличается от рутинной механической работы библиотекаря: ее метод алеаторичен, напоминает кат-ап, хотя бы уже благодаря фигуре архивиста. «А вот и еще один голос», — пишет Барскова, и это похоже на припоминание Платона: оптика выбора индивидуальна, но частности все равно приводят к новому знанию о целом. Один из центральных текстов последней на сегодня поэтической книги Барсковой «Сообщение Ариэля» — «Хэмпширский архив. Персоналии», которому предпослано указание: «В проекте принимала участие Фрося Крофорд», то есть дочь Барсковой. Предметы описания выбраны как бы рукой ребенка, случайны. Даже барсковский «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков» не ставит перед собой задачи полноты: главное — начать, обозначить вектор.
Архивная работа Барсковой — это еще и попытка архивиста разобраться с собственным «я». «Я обнимаю забвенье / Но я вас говорю», — произносит то ли ученый, разбирающий почерк убитого в 1942 году Израиля Лихтенштейна, то ли сам Лихтенштейн. Кто охранит самих охранников, кто озвучит самих архивистов? Поэт и прозаик дополняет ученого, даря ему метаязык.
Оживший таким образом архивист — это тот, кем мы интересуемся; ощущая наш интерес, он будто подбрасывает в костер поленья: чувства, которые для работы историка имплицитны, но остаются за кадром. Предмет изучения (блокада, трагедия, страдание) связывается с материалом собственной биографии. Нарушается табу на субъективность, и актуальными становятся не только умение анализировать, сопоставлять, монтировать, но и такие посторонние, казалось бы, чувства, как прощение.
Первый текст книги «Прощатель» представляет попурри из современности, России 1913 года, автобиографических деталей и двух историй — пережившего блокаду филолога и потайного поэта Дмитрия Максимова и итальянского писателя Примо Леви — знаменитого узника Освенцима, рассказавшего о своем опыте миру. «Когда же он стал писать свои книги, лучший друг, тоже, кстати, из вернувшихся, бросил ему теплое, как плевок, слово: прощатель!» Этот «плевок» — типично барсковский прием: человек поверяется физиологией, неприятным, стыдным. Человек ли это? Сходящий с ума от голода Пантелеев прислушивается к своему желудку: «ворчит, мурлыкает, блазнит, вздорит». О вкусе последнего вдоха Бродского «гадать постыдно», но Барскова все-таки гадает: «Возможно, как брусничное повидло. / Возможно, как разваренный горох». Вот и Примо Леви: «Получая приз, он еще полгода его переваривал, как удав, а потом выпускал из себя новый том». (Правильнее было бы — «получив».) Вот и Дмитрий Максимов, он же Игнатий Карамов… Человеческие жидкости размачивают сухой архивный материал, бумажные копии не гениев первого ряда, а людей, от которых осталось мало. Метод Барсковой — этакий негуманный гуманизм, берущий начало, как недвусмысленно показывают тексты «Живых картин», и в отношении к самой себе — к переплетенным душе и телу, слезам и крови («Помню, окончательно меня сразил лифчик со стальными иглами вовнутрь» — подарок-обязаловка от еще одного человека, которого остается только простить: вновь негуманный гуманизм, немилостивая милость). Неустроенность, тоска, непрошеная услужливость фантомов личного прошлого: как только их носитель соприкоснется с фантомами прошлого чужого (с блокадниками ли, с несчастным ли американским художником, при жизни не узнавшим признания), собственные призраки тут же дают о себе знать. Сказывается какая-то особая ревность, заложенная в человеческой природе. Тело и разум человека (писателя, архивиста) становятся полем битвы, взрывы взметают землю и обнажают неприглядное. Что можно сделать с этим? Записать, излить на бумагу — и в то же время, встав в метапозицию, подшить к наблюдениям. Вновь совместить терапию с наукой. Как пел Высоцкий в не самой лучшей своей песне, «Пока вы здесь в ванночке с кафелем, / Моетесь, нежитесь, греетесь, — / В холоде сам себе скальпелем / Он вырезает аппендикс». Провести болезненную операцию над собственной памятью означает в конце концов простить. Так Барскова может сказать отцу: «скоро я прощу тебя», а Дмитрий Максимов, систематизировав свои воспоминания о блокаде, может простить город.
Стараясь избежать общих мест, на которые провоцируют избранные Полиной Барсковой темы (личная и историческая травма, блокада, мучение человека человеком, творцы потаенной русской словесности…), я пишу сумбурно — между тем язык самой Барсковой исключительно точен: каждый эпитет попадает здесь в цель, каждое определение пригвождает определяемое. Чтобы понять это, стоит, может быть, оторваться от самых «травматических» текстов и приглядеться к рассказу «Modern Talking» — повествованию о детстве, об опыте пионерлагеря. Тема тоже непростая, но на фоне всего прочего рассказ выглядит так пасторально, что кажется инородным вкраплением в теле книги. Барскова описывает «сизые черничные кусты в сосновом легком корабельном лесу, лес сверху раскрыт, беспомощен: у леса сняли (и потеряли, закатилась) крышку, как у алюминиевого бидона, и залили холодным солнцем». Тут и там — эпитеты какой-то повышенной цепкости: «насекомообразные яркие ягоды», «малинник мстительно колется», цветок иван-чай полон «прозрачного пламени». Ягоды в руках великовозрастного«приблудка, придурка» Андрея, влюбившегося в восьмилетнюю девочку, оказываются «придушенными», а противопоставление самых простых антонимов дает неожиданный остраняющий эффект: «падают мертвые волосы, полные живыми тварями» (о стрижке детей, которые в пионерлагере завшивели). Только такими обертонами в этом рассказе проявляется любимая Барсковой телесность — она не хлещет через край, она, несмотря на то что автор вновь вступает на территорию неприятного, целомудренна.
Другое средство приглушить стихию «слишком человеческих» подробностей — эмоциональное осушение текста, уподобление его, в каком-то смысле, безжизненному городу — «Городу, который покинули птицы». Так называются блокадные записки писателя-натуралиста Виталия Бианки, о которых Барскова вспоминает в повести «Листодер». Именно эта повесть, посвященная судьбе Бианки, кажется мне лучшей в книге, и ее показательно сравнить с текстом «Братья и Братья Друскины. История раздражения». Братья Друскины, к которым Барскова питает несомненный интерес, все же связаны хорошо ложащимися на литературную канву взаимоотношениями. Эти два совершенно разных человека («Итак: один был щёголь, а другой был аскет, этот — сластолюбец и гурман, а тот — святоша и девственник, ну и так далее: выскочка и заика, педант и растеряха, зрелище и невидимка, специалист по Баху и специалист по Баху. Брат и брат») напоминают пару молотобойцев в известной деревянной игрушке, а приводит их в движение рука автора — реконструктора, архивиста и, может быть, забывающегося демиурга (потому что кто обладает силой воскрешения, как не демиург). Не то с Бианки: Барскова заворожена им как полностью самодостаточным феноменом — суровым человеком, выбравшим тот вид эскапизма, который только внешне кажется безобидным и несерьезным: письмо о природе, о животных, о лесе. Впервые в «Живых картинах» Барскова четко обозначает свою задачу: незаурядный архивист прекращает работу с собственным субъективным восприятием и показывает, чего он стоит как инструмент воскрешения и переосмысления. Характерно, что для этого механического труда необходимо в качестве материала встретить машину: «Я намерена заглянуть внутрь машины по производству слов под названием “Бианкиˮ и увидеть там до сих пор не виданное — возможно, под влиянием его предположения, что именно невидимая, прячущаяся от нас жизнь всегда увлекательнее, мощнее, сложнее того, что отдаётся равнодушному глазу. <…> Оказывается, пока мы увязаем в снегу и чувствуем везде лед, под ними, в глубине их, уже не только зачалась, но вовсю происходит-готовится весна. В норах, во тьме и вони, народились, возятся детёныши нового урожая, распухла вода, мёртвые растения приготовились ожить, растопырили корни для цепляния за новую весну». После приготовленного Барсковой краткого экскурса в биографию Бианки (пять арестов, блокада, инвалидность) его произведения — «Лесная газета», «Мышонок Пик» и многие другие, детская классика — действительно читаются совсем по-другому. «Большая часть его сказок — об охоте и о погоне, о смертельной опасности и борьбе». И впрямь, лучшие, очень-очень страшные страницы «Мышонка Пика» становятся рядом с великими строками Заболоцкого из «Лодейникова»: «Природа, обернувшаяся адом, / Свои дела вершила без затей. / Жук ел траву, жука клевала птица, / Хорек пил мозг из птичьей головы, / И страхом перекошенные лица / Ночных существ смотрели из травы». Вспоминается и другое стихотворение: «Смерть натуралиста» Шеймаса Хини: в нем ребенок, ведущий наблюдения за головастиками и лягушками, однажды становится свидетелем настоящего, отвратительного лягушачьего бесчинства в липкой грязи, и в ужасе бежит, навсегда теряя вкус к биологии. Бианки бы, конечно, остался и скрупулезно записал каждое кваканье.
Барскова подчеркивает: «Но всего поразительнее тон: никакой сентиментальности, никакого сочувствия к преследуемому и падшему. Всякая смерть, всякая жестокость — в природе вещей». Только такой человек, натуралист par excellence, способен на титаническую и не вполне человеческую работу: тихое изучение блокадного Ленинграда in situ: «Бианки — как не(у/за)давшийся, но всё же учёный — распределил свои впечатления по феноменологическим рубрикам: блокадный стиль, блокадный юмор, блокадное бесчувствие, блокадная улыбка, блокадный язык, вид блокадного города, блокадное женское, блокадные евреи — то есть за две недели он понял то, что нам ещё только предстоит сформулировать: что блокада есть особая цивилизация со всеми чертами, присущими человеческим сообществам». Разумеется, и этому бесстрастию был предел: вернувшись из Ленинграда, Бианки «слег и лежал», а затем даже написал стихотворение, где у него прорвался крик: «Там люди, люди гибнут зря!» И все-таки его блокадные записки, по Барсковой, — невероятный акт научного остранения. Это одна из двух причин, по которым Бианки ее так привлекает и даже восхищает. Вторая причина — его ускользание: погрузившись вновь в изучение природы, он полностью исчезает из мира людей, Ленинграда блокадного и послеблокадного: «и был таков».
Бианки и пишущая о нем через семьдесят лет Барскова отразились друг в друге: превосходный текст получился в результате зеркального взаимодействия. Писатель, поэт, архивист Полина Барскова увидела другого такого (масштабы поэтического дарования, конечно, несопоставимы: выдающимся поэтом, в отличие от Барсковой, Бианки отнюдь не был) и, завороженная, написала о нем — вероятно, осознавая, что ей как художнику (подчеркну, что о ее научных работах я сейчас не говорю) такой, бианковский, стиль обращения с материалом недоступен. И это ей не в упрек — у нее свой стиль: живой, горячий, «чем случайней, тем вернее». Ее, как Евгения Шварца, в блокаде интересуют «люди… почти никто из них не доживет до весны»; ее, как Геннадия Гора, тревожит телесный гиньоль, которым сопровождается катастрофа. И ее волнуют разговоры, далекие от классификаций, те, в которых что-то довоенное, хоть бы и профессиональное, появляется только в следовых количествах, в виде распавшегося «чужого слова». Так сходящий с ума эрмитажный экскурсовод начинает вдруг, как робот, произносить заученный текст о Рембрандте, а чтение «Снежной королевы» всплывает в череде детских воспоминаний, которыми заговаривают голод замерзшие люди. Вот почему после «Листодера» следует пьеса «Живые картины», о реальных людях — Моисее Ваксере и Антонине Изергиной, об их невозможной любви, и читать это больно, почти невыносимо. Как, вероятно, и писать — настолько, что приходится ударить по живым-умирающим людям наотмашь голосом «блокадной победоносной радиосводки»:
«…раздается голос Тоти, звучащей чеканно, как будто это голос диктора:
Моисей Ваксер умер в стационаре 4 февраля 1942 года. Тоти, Антонины Изергиной, не было рядом с ним в ту ночь. Большая часть его неопубликованных работ, писем и фотографий исчезла».
И пьеса, и вся книга — разительное свидетельство того, как современный писатель, историк, но в первую очередь человек, со своими слабостями, страхами, телом, может вжиться в прошлое. Как прошлое сильнó и как требует знать себя, что-то делать с собой. Как бесполезна его консервация. Как архив напоминает тот самый снег, под которым весной работает жизнь.
- Худшее кощунство – это забвение...Евгений Коган
Книжку Полины Барсковой «Живые картины» я выпросил в Издательстве Ивана Лимбаха на Красноярской книжной ярмарке в октябре прошлого года. И тогда же прочитал – не мог оторваться до последней страницы. Потом, спустя месяц, перечитал еще раз, посоветовал всем своим друзьям и знакомым друзей. И примерно с тех пор пытался про эту книжку написать. Но так и не смог. Я читал многочисленные рецензии в надежде, что они помогут мне найти искомые слова. Но – сдался. Вернее – отступил. Зато нашел выход – попросил Полину ответить на несколько вопросов, которые мне кажутся важными.
«Живые картины» – это сборник небольших рассказов, так или иначе связанных с блокадой – темой, которая занимает тебя уже многие годы. Некоторые твои стихи про блокаду, а еще ты пишешь на эту тему эссе, исследуешь блокадные дневники и документы. Скажи, история твоих взаимоотношений с блокадой – это просто интерес интеллигентной еврейской девочки, рожденной в Ленинграде, или же она какая-то семейная, личная?
Насколько это личная для меня история – сложный вопрос. Моя семья в блокаде не была в Ленинграде, никаких семейных историй мне никто не рассказывал… Я выросла в ленинградском Парке Победы, но мне никто не сказал тогда, что он был отстроен на костях, на пепле, что там была одна из блокадных похоронных ям. Если я что-то и помню, то открытие памятника на площади Победы, это сочетание грандиозности, мрамора, позолоты и малюсенького жалкого кусочка хлеба. Мне было лет пять, и я ужасно ревела над сверкающей витриной с этим страшным хлебом. Потом, уже в Беркли, я занималась культурной жизнью Ленинграда 1920-1930-х, и меня как бы снесло по какой-то чудовищной горке вниз – то есть, исторически, вперед, – в 1940-е. Дело в том, что большинство моих героев сожрала блокада, вот, того же Хармса. Но также я думаю, что для меня это все-таки мои личные отношения с городом, отсутствие которого в моей жизни очень сильно. Когда изучаешь блокадные тексты, дневники и поэзию, поражаешься, насколько большую роль город играл в блокадной реальности, как он остро, постоянно воспринимался – они пишут о голоде и о городе, и для меня это тоже способ думать о городе вместе с ними.
А почему ты обратилась к прозе?
Я захотела рассказать истории и, в частности, истории чужой жизни, а в стихах сложнее вязать сюжет. Меня более всего занимают истории творчества – там, в моей книжечке, ведь не только блокадники, там, скажем, есть художник Пикассо или моя тетушка, тоже художник. Мне было интересно думать, как течет их время, как связаны их мысли, воспоминания. Только в прозе можно показывать связи, ткань протекания времени, поэзия же фрагментарна, отрывочна. Проза живет по совершенно иным законам, по-другому держит читателя. В каком-то смысле мне захотелось иных методов воздействия…
Наверное, тебя уже просили высказываться на эту тему, и все же – можешь в двух словах описать свое отношение к небезызвестному стихотворению Виталия Пуханова «В Ленинграде, на рассвете…», к книге Карины Добротворской «Блокадные девочки» и так далее? Есть ли в разговоре о блокаде запретные, кощунственные темы?
Первое – я считаю, что тексты о блокаде должны появляться, размножаться и быть разными! Как раз сейчас я еду на конференцию в Германию, где мы будем говорить, среди прочего, о блокадных фильмах Лозницы и голландки Гортер – они совершенно разные, но равно важные и резкие… О блокаде писали Пепперштейн, Завьялов, Вишневецкий, тот же Пуханов и многие другие, и мне бы хотелось, чтобы вокруг этих высказываний была открытая, разумная, просвещенная дискуссия. А что касается кощунства… Для меня худшее кощунство – это забвение, замалчивание, пренебрежение или, наоборот, покрывание лаком и позолотой.
Когда я читал «Живые картины», мне порой не хватало комментариев, каких-то пояснений: кто тот человек, о котором ты пишешь; где найти дневники Бианки и так далее. Или венчающая книгу пьеса – это реальная история или вымысел про живших когда-то людей? Отсутствие таких пояснений – это сознательный выбор?
Моя книжка – это все же историческая беллетристика, а не научная работа. Здесь оперирует воображение. Например, в той же пьесе – я использую реальные слова этих людей, но не только. Сама идея «сказки - документа» вызвана недостатком знания. При этом меня интересовала очень сложная тема – история блокадной любви. Что вообще остается от человеческих отношений – горе, стыд, раздражение? Моисей до конца, уже в безумии, заботится об Антонине [Моисей Ваксер и Антонина Изергина – персонажи пьесы Полины Барсковой и реальные работники Эрмитажа: Изергину увезли в эвакуацию в 1942 году, Ваксер погиб в первую блокадную зиму. – Прим. Е. К.]. Такое полезно знать… Я, кстати, перенесла действие в другое место Эрмитажа, из подвала в Рембрандтовский зал. В подвале, среди общей смерти, вряд ли они могли бы говорить о нежных чувствах…
Как ты считаешь, можно ли воспринимать твои "Живые картины" с листа, без подготовки? Сможет ли их понять человек, не читавший, например, Берггольц и «Блокадную книгу» и никогда не слышавший фамилии Гора?
Это вопрос о хорошем читателе, о котором мечтал Набоков, – о таком читателе, который будет искать, рыть знания… К слову, я сейчас потихоньку работаю над новой блокадной книжечкой, над очерками жизни блокадных поэтов. В ней я попытаюсь обратиться к людям, которые пока, возможно, не знают ни Гора, ни Шишову, ни Гнедич. Но которые готовы увидеть их странными, сложными, не сведенными к умилительным готовым формулам.
Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019
(Предыдущее издание: Издательство Ивана Лимбаха, тираж 1500 экз., 2014, ISBN 978-5-89059-219-4)
Редактор: И. В. Булатовский
Корректор: Л. А. Самойлова
Компьютерная верстка: Н. Ю. Травкин
Дизайн обложки: Н. А. Теплов
Обложка, стр. 192
УДК 821.161.1-3 «20»
ББК 84.3 (2=411.2) 6-4
Б 26
*Полина Барскова признана Минюстом иностранным агентом
Формат 84×1081/32 (206х136 мм)
Тираж 1500 экз.
18+
Книгу можно приобрести